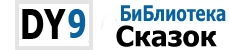Театр
Страница 1 из 2
Театр (рассказ)
(1934 г.)
В первый раз я попал в театр, когда мне было лет восемь. Разумеется, это был дневной спектакль. Почему-то отец выбрал некий дешевый, второразрядный «Новый театр», известный тем, что раз в год обязательно горел, потом долго стоял посередине скучной торговой площади, заброшенный, обугленный, обнесенный временным забором, пока его наконец опять не ремонтировали. После каждого ремонта он становился все хуже и беднее. Он имел вид убогий, совсем не театральный, скорее какой-то манеж.
Мы пошли однажды серым и холодным утром в этот театр.
Внутри он оказался еще беднее, чем снаружи.
У нас были билеты на галерку, и наши места оказались на деревянных длинных скамьях, где-то совсем сбоку. Сверху я смотрел в полупустой и слабо освещенный газом, полный дневных теней зрительный зал, узкий и глубокий, как ящик. Меня взволновала противоестественная смесь вечернего и дневного освещения. Вечернего – в зале, дневного – в холодном и грязном фойе, из окон которого виднелось серое небо и давно не крашенные крыши. Спектакль был сборный. Я смутно помню один акт из оперетки «Гейша» [профессиональная танцовщица и певица в Японии, приглашаемая для приема и развлечения гостей.]. Какие-то зеленые кусты, кудряво вырезанные из крашеного картона и симметрично расставленные на обширном неопрятном дощатом полу сцены. В зеленых кулисах, среди ветвей полотняных деревьев, наклеенных на сетки, толпились, прячась от публики, актеры в костюмах и пожарные в касках, мундирах, с топориками в руках.
Спектакль был сборный. Я смутно помню один акт из оперетки «Гейша» [профессиональная танцовщица и певица в Японии, приглашаемая для приема и развлечения гостей.]. Какие-то зеленые кусты, кудряво вырезанные из крашеного картона и симметрично расставленные на обширном неопрятном дощатом полу сцены. В зеленых кулисах, среди ветвей полотняных деревьев, наклеенных на сетки, толпились, прячась от публики, актеры в костюмах и пожарные в касках, мундирах, с топориками в руках.
Была какая-то фанза [китайское или корейское жилище (преимущественно в сельской местности), каменное или саманное, на каркасе из деревянных столбов.]. Со сцены, едва только подняли занавес, стало дуть ужасно пыльным холодным ветром.
Ходили, подняв вверх указательные пальцы, и приседали друг перед другом китайские мандарины [европейское название государственных чиновников в старом феодальном Китае.] с косами, танцевали гейши с длинными шпильками в черных лакированных прическах.
Отец очень беспокоился за мою нравственность и нервно поерзывал в своем вычищенном бензином сюртучке рядом со мной на неудобной боковой лавке. Беспокоился он совершенно напрасно. Я ничего не понимал, да ничего неприличного, вероятно, и не было. Было только холодно, неудобно и скучно.
В следующем отделении показали модный танец «серпантин».
На сцену явилась дама в белых одеждах, с длинными крыльями – продолжением рук.
Сделали темноту и белую женщину стали освещать волшебным фонарем. Она подняла, распустила свои руки-крылья и стала ими двигать. Это была огромная бабочка, волшебно меняющаяся в цвете.
Синий, зеленый, желтый, фиолетовый, алый – все желатиновые цвета волшебного фонаря проходили по трепещущей, веющей материи фосфорических крыльев.
А в темноте на пианино в это время наяривали модный вальс «Дунайские волны».
Но настоящий театр – театр-сюрприз, театр-шоколад – был совсем другой.
Это был знаменитый одесский городской театр. Синяя раковина его крыши издали виднелась в теплом дыму вечернего города, как бы венчая его венцом оперного искусства.
Отец покупал билеты заранее. Чаще всего он покупал их у барышников, то есть у тех странных, в высшей степени таинственных и даже несколько преступных личностей в каракулевых шапочках, надвинутых на неистово сверкающие глаза, которые прогуливались как ни в чем не бывало среди аркад [ряд одинаковых по форме и величине арок, опирающихся на столбы или колонны.] и гранитных скульптур фасада.
Билеты лежали, вчетверо сложенные, в каком-то боковом отделении потертого отцовского портмоне, в том самом заветном отделении, где лежали пожелтелые и на сгибах истлевшие странные бумажки, очень-очень необходимые, – не дай бог потерять! – носившие всеобъемлющее наименование «квитанции».
Театральные билеты, несомненно, принадлежали к семейству квитанций, – эти тонкие разноцветные бумажки с купонами, штемпелями и марками ведомства императрицы Марии Федоровны [Театральные билеты… с купонами, штемпелями и марками ведомства императрицы Марии Федоровны. – В начале ХХ в. в России существовал обязательный благотворительный сбор, который взимался с продажи входных билетов в кинематограф, цирк, театр и т. д. в пользу Ведомства учреждений императрицы Марии, управлявшего сиротскими, женскими и другими учебными и благотворительными учреждениями (основано в 1796 г. как канцелярия императрицы Марии Федоровны (1759–1828), второй супруги императора Павла I, упразднено в 1917 г.). В качестве подтверждения оплаты сбора использовались специальные марки.], где был изображен зобатый пеликан, питающий своих птенцов, высунувших алчные клювы из гнезда, знаменующего собой официальную нищету сиротства.
Театр был, совершенно очевидно, выдающимся явлением: к нему имела прямое отношение сама Мария Федоровна [Мария Федоровна. – Здесь герой рассказа представляет себе императрицу Марию Федоровну (1847–1928), супругу императора Александра III, которая после вступления на престол в 1881 г. в течение 36 лет руководила Ведомством учреждений императрицы Марии.]. Я готов был представить ее печальную и роскошно одетую, собственноручно наклеивающую свои царственные марки на билеты, которые без этих марок были не действительны.
Ужасное слово – «не действительны».
Это слово страшной угрозой висело над всем непрочным существованием тоненьких, почти прозрачных театральных билетов.
Без марок императрицы они были не действительны. Без контрольных купонов они были не действительны. Без числа, месяца и года они были не действительны. На другой день после спектакля они были тоже не действительны, хотя дирекция и оставляла за собой право заменять в случае болезни исполнителя один спектакль другим.
Дирекция была неумолима. Несомненно, к дирекции имела отношение старая царица.
О, эта поездка в театр!
Туда – на конке, оттуда – на извозчике, который ломил ввиду позднего часа чудовищные деньги – шесть гривен [десятикопеечная монета (разг.).], хотя конец был не очень большой. (Обычные шестьдесят копеек в применении к ночному извозчику превращались в пахнущие кожей и лошадью «шесть гривен».)
В нижнем полукруглом фойе, по стенам, над черными дырочками рожков, трещали на сквозняке маленькие веера газа. Они были желто-красные, с черными основаниями, почему и напоминали лепестки мака.
Впрочем, может быть, газ я видел где-то в другом месте, потому что самый зрительный зал в воспоминаниях моих всегда сиял электричеством.
Мы с папой поднимались по каменной мрачной и холодной до озноба лестнице во второй ярус. Это уже было под крышей.
Зрительный зал являлся перед моими глазами румяными музами и выпуклыми амурами слишком близкого потолка.
Знаменитая золотая люстра, гордость одесского муниципалитета, висела перед нами так близко, что казалось, ее можно потрогать рукой.
Это была опрокинутая романовская корона, окруженная тремя концентрическими нитками матового царственного жемчуга, изливавшего яркий теплый, золотистый бальный свет.
Внизу, на головокружительной глубине, шумело, и шаркало, и разговаривало сотнями голосов то чудесное, вишнево-бархатно-красное, в высшей степени праздничное и парадное, что называлось «партер».
По бокам, загибаясь, шли ярусы; матовые фероньеры [украшение в виде обруча, ленты, цепочки с драгоценным камнем или жемчужиной посередине, которое носили на лбу.] электрических ламп, как страусовые яйца, горели во лбу лож. Ложи были, как головы, увенчаны вишневыми бархатными тюрбанами драпри [портьера, занавеска.], говорившими моему нежному детскому воображению языком «Тысячи и одной ночи», языком прекрасного Аладдина, натирающего песком волшебную лампу в пещере, заваленной грудами драгоценных камней, крупных, как фрукты.
Но самое прекрасное и самое таинственное это был занавес.
В детстве я никогда не видел театрального занавеса вблизи и прямо перед собой. Он всегда находился где-то внизу и сбоку от меня. Он косо стоял, непостижимо громадный, парчово-золотистой стеной, роскошной картиной в гипсовой золоченой раме театрального портала [архитектурно оформленный проем, обычно являющийся входом в здание.], где парадной итальянской кистью нежно и благородно была написана прелестная сцена из «Руслана и Людмилы».
Людмила лежит на возвышении, в беспорядке падают складки девичьей постели, и Руслан, с каштановой бородкой, молодой и прекрасный, в сафьяновых сапожках, поднялся по ступеням и наклонился над спящей красавицей.
Еще мгновение – и Людмила проснется и сядет на своем высоком ложе; кажется, ее глаза начинают открываться.
Но уже собираются музыканты; в оркестре – движение. Льются хроматические гаммы, дисгармоничны фиоритуры [орнаментальный пассаж, украшающий мелодию.] настраиваемых инструментов. Все эти звуки как бы поднимаются вверх вдоль яркой картины. Они колышут ее. Дисгармоничный шум оркестра усиливается, доходит до какофонии. Он волнует. Он мучает, заставляет изнемогать от нетерпения. С трудом выдерживают нервы. Становится и холодно и жарко.
Отец вынимает из чехла бинокль, и в его маленьких черных стеклах, как в иллюминаторах, во всех подробностях бусинками лампочек отражается крошечная коронка люстры.
Тогда над оркестром грузно поднимается старый, согбенный, мертвенно-лысый человек во фраке. Прибик! Его фамилия – Прибик. Он стучит тонкой палочкой по пульту. Этот стук – тоже «прибик, прибик». Анархия оркестра умолкает. Диктатор подавил беспорядки звуков.
Жемчужинки зрительного зала гаснут в стеклах бинокля.
Теперь Руслан и Людмила царят над всем миром, бесстыдно озаренные рампой снизу.