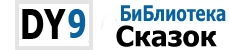Волшебная шубейка — Мора Ф.
Страница 2 из 18
Волшебная шубейка (повесть)
СИНИЧИЙ КОРОЛЬ
Теперь-то я знаю, что сестрёнка моя, Марика, умерла от дифтерита. Но в то время ещё не очень хорошо распознавали эту болезнь, а лечить и подавно не умели. И не знали они того, что болезнь эта очень заразна и легко передаётся от больного ребёнка здоровому. Так что, наверное, никто и не думал, что вместе с грушкой-игрушкой и собственную смерть в кармане ношу.
Детские слёзы скорые: мигом потекут, мигом и высохнут. Прошло всего несколько дней после нашего большого горя, а я уже как ни в чём не бывало жил-поживал, как умел, забавлялся. Однажды нашёл я на кукурузной делянке большую-пребольшую тыкву. И сразу подумал: вот бы из неё синичью ловушку сделать.
Ловля синиц была моей самой любимой забавой в зимнюю пору. Конечно, синиц я не ртом ловил, как некоторые нынешние ребятишки ворон ловят. А я сделаю, бывало, западню из тыквы, повешу её на тын или на край колодезного сруба поставлю. Смотришь, к вечеру уже сидит в ней очередной пленник, «караул» кричит:
— Помогите! Отворите! Неужто тут нет никого?
А я, накрыв маленькую черноголовую птичку ладонями, бегу к старому полевому сторожу Дюри Месси похвастаться своей удачей:
— Поглядите, дядюшка Месси, какая у меня синичка!
— А ну, покажи, в самом деле, какая? — говорил, взглянув на мою добычу из-под огромной бараньей шапки, дядя Дюрка и тут же пренебрежительно махал рукой. — Зря только такую знатную тыкву извёл. Поймал ты самую что ни на есть простецкую, «мужичью синицу».
— А что, разве бывают какие-нибудь другие?
— Ещё бы, пострелёнок! Синичий король — вот это другое дело. Вот бы кого нам с тобой словить! Уж он-то принёс бы тебе столько счастья в дом, что хоть лопатой греби.
Тут я огорчённо выпускал из ладони свою «мужичью синицу».
— К ним лечу, к своим лечу! — обрадовано кричала птица и пускалась догонять своих сородичей. Но мне от того, к кому она летит, было ни холодно, ни жарко.
С того дня все мои мысли были заняты только синичьим королём.
— Какой он хоть из себя, этот король синичий? — допытывался и не раз у дяди Дюри. — У него что ж, и корона есть на голове?
— Есть, сынок, есть! Голубая корона, розовая мантия, белая жилетка, а ножки в красных сапожках. А самое первое, как его узнать, — это по чёрной бархатной бородке. Ни у какой другой птицы на целом свете нет такой бороды.
Стал я с тех пор охотиться только за синичьим королём. Но не попадался он мне. Да никто о нём и слыхом не слыхивал. Никто, разумеется, кроме дядюшки Месси. Он-то уж всегда что-нибудь неслыханное-невиданное придумает. Отец мой, бывало, не раз его корил:
— Ну, что ты, кум, мальчонку такими сказками в обман вводишь?
— Не сказка это, сосед Мартон! — стоял на своём старый полевой сторож. — Видал я синичьего короля. Своими глазами видел. На гнезде он сидел, в камышах. И как он поёт, слышал: «Цыть! Молчать! Пошёл прочь! Эй, вы, потише, там!» — выговаривает.
— Приснилось всё это тебе, сосед! — засмеялся, помню, отец. Да и я тоже вскоре почти перестал верить в синичьего короля. И вдруг как-то раз опять слышу о нём. Всё тот же Дюри Месси рассказывает, будто поутру обходил он виноградник и видел, что король синичий на кусте засохшего репейника сидел.
— Сейчас? Летом? — удивился я и заспорил: — Синицы же только зимой в село прилетают, когда им в лесу уже кормиться нечем.
— Больно ты умён! — вскипел старик. — Ты что же, думаешь, что синичий король, он тебе как простая «мужичья синица»? Да он когда захочет, тогда и прилетит. Проверку делает своим подданным. В любой час, когда только вздумает.
И теперь, увидев среди стеблей кукурузы огромную тыкву, я опять вспомнил об этой новости. Выдолбил тыкву изнутри, сделал ловушку. А поставил её на крышу хлева. Дай, думаю, попытаю счастья. Немного и времени прошло, как вдруг слышу: западня моя — хлоп! — и закрылась. А в ней какая-то длиннохвостая птичка прыгает.
«Ой, а вдруг это синичий король?» — подумал я, а сердце от радости из груди готово выскочить. Пулей полетел я к хлеву. Так и есть! Гляжу: у пленника моего головка синяя, грудь белая, спинка — розовая. И чёрная бархатная борода! Точь-в-точь такая, как дядюшка Дюри описывал. Да и разговор тот же: «Цыть! Молчать! Пошёл прочь! Мальчишка!»
Взял я синичьего короля в руки, а он боязливо так золотистым глазком на меня косится и уже не сердито, а скорее даже робко покрикивает.
Жалко мне вдруг его стало. Почему-то Марика вдруг вспомнилась, как она, бедняжка, на меня вот так же печально в последний раз посмотрела. Раскрыл я ладони, да и выпустил пленника на волю:
— Лети-ка ты, синичий король, к синичьему народу своему!
Птичка вспорхнула у меня с руки, но прочь не умчалась, а раза три-четыре облетела вокруг меня, словно что-то сказать мне хотела.
— Динь-динь, день-денц! Гергё, мо-ло-дец! — будто колокольчик зазвенел надо мной её серебряный голосок.
А меня вдруг страх обуял: что, если с этой птичкой бородатой я своё счастье из рук упустил?
Так оно и случилось: уже на другой день лежал я в горнице на большой кровати и пылал как в огне. А доктор Титулас, теперь уже надо мной склонясь, протирал свои запотевшие очки и говорил матери:
— Дифтерит и у этого, душечка. Та же самая болезнь, что и у бедняжки Марики была.
Много дней я провалялся в бреду, без памяти. Помню только, что один раз открываю я глаза, а на кровати в ногах у меня сидит, нахохлившись, какая-то мрачная, чёрная птица. На ворона похожая. Посмотрела она на меня, и сразу меня из жара в озноб бросило.
— Прогоните, прогоните её поскорее! — закричал я. Тут такой переполох начался в горнице. Матушка, отец, доктор Титулас — все принялись гнать чёрную птицу. Да всё без толку. Птица носилась по комнате, кружила надо мной, подбираясь всё ближе и ближе. В конце концов она нахально уселась у самого моего изголовья. И я даже слышал, как она скрежещет клювом, точит его. Но я уже больше не посмел открыть глаза.
Тут такой переполох начался в горнице. Матушка, отец, доктор Титулас — все принялись гнать чёрную птицу. Да всё без толку. Птица носилась по комнате, кружила надо мной, подбираясь всё ближе и ближе. В конце концов она нахально уселась у самого моего изголовья. И я даже слышал, как она скрежещет клювом, точит его. Но я уже больше не посмел открыть глаза.
И вдруг в комнате послышался чей-то очень знакомый-знакомый, хоть и негромкий голосок:
— Цыть! Молчать! Пошёл прочь! Прочь! Прочь!
Да ведь это же синичий король! Тут ко мне снова вернулась смелость, и я открыл глаза. В самом деле он! Только теперь его было не узнать: глаза горят огнём, чёрная борода на ветру будто стяг развевается, все перья дыбом, а маленький клюв сверкает, словно меч.
— Прочь, прочь! Марш отсюда! — орал он на большую чёрную птицу.
«Помогите ему, помогите!» — умоляюще смотрел я на своих, но никто и не пошевелился. И отец и мать — все в слезах — неподвижно сидели, уставившись перед собой.
Но и не нужно было ничьей помощи моему синичьему королю: он вихрем кружил вокруг большой, неуклюжей птицы, молнией падал на неё сверху, клевал её, а она неловко отбивалась. Вот ещё один сильный удар королевского клювика-меча по мерзкой чёрной голове, и большая уродливая птица трусливо улетела прочь через окно.
— Дзинь-дзень, добрый день! — победно зазвенел голос синичьего короля в горнице. А я приподнялся в постели и обрадовано засмеялся:
— Ой, как хорошо, что она улетела!
Отец и матушка принялись меня обнимать и, плача и смеясь от счастья, спрашивать:
— Кто улетел, сыночек? Здесь же никого не было!
— Как же не было? А большая чёрная птица? Её мой синичий король прогнал, вон он! — показывал я на свою храбрую птичку, усевшуюся отдыхать на край вешалки.
— Смотри-ка, мать, и впрямь синичка! А мы-то с тобой её и не заметили! — увидев наконец моего синичьего короля, удивился отец. — Должно быть, налетела, когда мы горницу проветривали. Красивая птичка. Её «бородатой синицей» зовут.
Не стал я возражать отцу, хотя я-то уж наверное знал, что это сам его величество синичий король. И что это он прогнал прочь чёрную птицу смерти.
СОКРОВИЩА ПРЕДКОВ
Неделю спустя и следа не осталось от моей болезни. Если не считать забот, которые теперь причинял матушке мой аппетит. Я то и дело приставал к ней: что будет на обед да что на ужин.
Прежде на этот вопрос у нас так отвечали:
— На обед два блюда да закуска: корка, мякиш и горбушка.
Но теперь, чтобы отпраздновать моё выздоровление, мама устроила настоящее пиршество. Столько было всяких яств, что казалось, и каменный жёрнов, служивший нам обеденным столом, вот-вот рухнет под ними. Было тут и «жаркое но-садовничьи» — так почтительно именовалась у нас печёная тыква. Были «галушки в шубе» — понимай: картошка в кожуре, и, наконец, смородина сорта «вырви глаз» — блюдо отменно кислое, на любителя. Голоден был я как волк и не знал только, с чего мне поскорее начать. Но матушка ласково погладила меня по голове и сказала:
— Погоди, сынок, что я тебе ещё принесу-то!
И вносит она жареного голубя на блюде с голубыми цветочками. На том самом, что у нас только по большим праздникам на стол подают. Отец уже положил на мою тарелку голубиную грудку, как дверь вдруг отворяется и в неё шариком вкатывается деревенский знахарь Кюшмёди. И, ни слова не говоря, хвать у меня из-под носа тарелку с голубем и усаживается с нею на сундук.
— Ах, как кстати, как вовремя я к вам наведался! — забормотал он. — С ума сошли люди: голубиным мясом собирались больного ребёнка кормить! Да нешто вам не ведомо, что от него бедняжка в единый миг сам в голубка может оборотиться, и придётся ему потом целых девять годов летать за тридевятью землями.
— Вижу, просветление разума у вас наступило, дядюшка Кюшмёди, — рассмеявшись, сказал отец; но мама, боясь, как бы не «сглазил» старый колдун, обняла меня крепко, да ещё и передником сверху прикрыла.
Всемогущий ворожей Кюшмёди — маленький, кругленький старичок с длинной белой бородой по пояс — и летом и зимой ходил в шубе и овчинной шапке, из-под которой всегда топорщились в стороны, будто крылья у ветряной мельницы, мохнатые брови. Такие мохнатые, словно это были и не брови вовсе, а усы. Только выросли они почему-то не на губе, а над его курносым носом. При виде Кюшмёди каждому человеку обязательно приходило в голову, что именно так должны выглядеть сказочные карлики, которые сидят по тёмным пещерам и стерегут свои сокровища. Возможно, что у Кюшмёди это и было главным занятием, только никто о том не знал. Сколько люди помнят, он всю жизнь обитал в одной из штолен старой, заброшенной шахты, куда, кроме него, никто из смертных и не заглядывал. Говорили, что вход в штольню охраняют хищные птицы, грифы-стервятники, которые если закричат, так у человека сразу голова с плеч долой. Время от времени Кюшмёди пропадал куда-то, и тогда люди шушукались, что он изучает ведьмино мастерство. И добавляли, что он будто бы знает язык птиц, сведущ в целебных травах, может повелевать ветрами, выводить крыс, а если на кого разгневается да швырнёт в него своей бараньей шапкой, тому и мёд горьким покажется. Никто и не смел на нашей улице перечить дядюшке Кюшмёди. Повсюду, куда он, бывало, ни постучится, встречали его и курочкой и белым калачом.
Но я всё равно теперь готов был съесть и всемогущего колдуна. После того как он сам съел мою долю жареного голубя. Он-то, бессовестный старикашка, видно, не боялся, что превратится в голубя. Мало того, Кюшмёди пересел к столу и придвинул к себе всё блюдо с жареным голубем.
— Бог с ним, — приговаривал он при этом, — лучше уж я его уберу, но не позволю, чтобы он этого милого мальчика у нас забрал.
— Кушайте на здоровье, — угощала мама грозного колдуна, стараясь ничем его не прогневить. Даже свежую булку на стол выставила, вытащив её из печи.
А отец только посмеивался, глядя, как ворожей прямо с костями пожирает голубя, заедая его ломтями сдобной — с жару, с пылу — горячей булки. Покончив с едой, колдун подмигнул мне и приказал:
— А ну, Гергё, открывай рот, посмотрю я, осталась ли ещё какая хвороба у тебя в горле?
С этими словами знахарь поставил меня между колен, как это обычно делают настоящие доктора, и шершавой, старческой рукой провёл по моей шее. И при этом стишок сказал:
У собаки заболи,
У вороны заболи,
А у маленького Гергё
Всю болесть утоли.
На ворону, на собаку
Его хворь подели!.. Ну вот, — закончил осмотр самозваный лекарь. — Как петух прокукарекает, так все твои болячки сами по себе пройдут, барончик Гергё. От моего заговора и мёртвый живым сделается!
Ну вот, — закончил осмотр самозваный лекарь. — Как петух прокукарекает, так все твои болячки сами по себе пройдут, барончик Гергё. От моего заговора и мёртвый живым сделается!
Мне очень хотелось спросить у кудесника, почему он величает меня «барончиком»? Но я не успел и глазом моргнуть, как чародей принялся уже и за «жаркое по-садовничьи».
Дядюшка Кюшмёди взглянул на меня из-под мохнатых бровей:
— Понимаю, человечек! Маленький человечек испугался, что дедушке Кюшмёди может не понравиться такая скудная еда. А ты не бойся за дедушку Кюшмёди. Дедушка Кюшмёди — добрая душа. Жаль только, один он такой на целом свете. Лучше, конечно, птичье молоко, но сойдёт и картошка в «мундирчиках».
Что верно, то верно: сошли, все до одной. Из чугунка на столе в колдунову утробу. Нам остался только запах от тех картофелин. Воочию смогли убедиться, как может всесильный Кюшмёди в одиночку управиться с ужином на целую семью.
Отец, встав на табуретку, уже запалил светец и, как и положено скорняку, уселся врачевать чей-то драный-предраный полушубок.
При виде его колдун сморщил свой курносый нос:
— И это вы зовёте полушубком?
Отец, человек неразговорчивый, отвечал коротко:
— Да.
— Да в нём и мышь-то не захочет поселиться.
— Точно.
— И ты, Мартон, должен снова в лучший вид его привести?
— Должен.
— Ведь я знаю для тебя и получше занятие, — вздохнул Кюшмёди, придвигая к себе поближе решето, доверху наполненное красной смородиной.