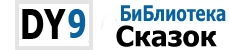Приключения Тома Сойера — Марк Твен
Страница 17 из 28
Приключения Тома Сойера (повесть)
Учитель этой школы, мистер Доббинс, дожил до зрелого возраста и чувствовал себя неудачником. Смолоду мечтал он о том, чтобы сделаться доктором, но из-за бедности принуждён был довольствоваться скромной долей школьного учителя в этом захолустном городишке. Каждый день, сидя в классе, он вынимал из ящика стола какую-то таинственную книгу и урывками, в те промежутки, когда ученики не отвечали уроков, погружался в чтение. Эта книга хранилась у него всегда под замком. Не было школьника, который не сгорал бы желанием заглянуть в эту книгу, но случая не представлялось никогда. Что это за книга? У каждой девочки, у каждого мальчика были свои догадки, но догадок было много, а дознаться до правды не представлялось никакой возможности. И вот Бекки, проходя мимо учительского стола, стоявшего неподалёку от двери, заметила, что в замке торчит ключ! Можно ли было пропустить такой редкостный случай? Она оглянулась — вокруг ни души. Через минуту она уже держала книгу в руках. Заглавие «Анатомия», сочинение профессора такого-то, ничего ей не объяснило, и она принялась перелистывать книгу. На первой же странице ей попалась красиво нарисованная и раскрашенная фигура голого человека. В эту минуту на страницу упала чья-то тень: в дверях показался Том Сойер и краем глаза глянул на картинку. Бекки торопливо захлопнула книгу, но при этом нечаянно разорвала картинку до середины. Она сунула книгу в ящик, повернула ключ и разревелась от стыда и досады.
— Том Сойер! Вас только и хватает, что на всякие пакости! Какая подлость — встать за спиной и подглядывать!
— Откуда же я знал, что ты тут на что-то глядишь?
— Стыдитесь, Том Сойер! Вы, конечно, наябедничаете на меня и… Что мне делать? Что же мне делать? Меня высекут, уж это наверное, а меня в школе ещё ни разу не секли… — Она топнула ногой и прибавила: — Ну и жалуйтесь, у вас подлости хватит! Я тоже кое-что знаю. И это скоро случится. Погодите — увидите! Гадкий, гадкий, гадкий!
Она зарыдала опять и бросилась вон из комнаты. Том остался на месте, ошарашенный её нападением. Потом он сказал себе:
— Что за глупый народ — девчонки! Никогда не секли в школе! Велика важность, что высекут! Все они — ужасные трусихи и — неженки. Понятно, я не стану фискалить и ни слова не скажу старику Доббинсу про эту дурёху… Я могу расквитаться с ней как-нибудь по-другому, без подлости. Но она всё равно попадётся. Доббинс опросит, кто разорвал его книгу. Никто не ответит. Тогда он начнёт, как всегда, перебирать всех по очереди; спросит первого, спросит второго и, когда дойдёт до виноватой, сразу узнает, что это она, даже если она будет молчать. У девчонок всё можно узнать по лицу — выдержки у них никакой. Ну и высекут её… наверняка… Попалась теперь Бекки Тэчер, от розги ей не уйти!
Подумав немного, Том прибавил:
— Что ж, поделом! Ведь она была бы рада, если бы в такую беду попал я, — пусть побывает в моей шкуре сама!
И он побежал во двор и присоединился к толпе сорванцов, затеявших какую-то игру. Через несколько минут пришёл учитель и начался урок. Том не особенно интересовался занятиями. Он поминутно смотрел в ту сторону, где сидели девочки, и лицо Бекки внушало ему беспокойство. Вспоминая её поведение, он не имел ни малейшей охоты жалеть её — и всё же не мог подавить в себе жалость, не мог вызвать в себе злорадство. Но вот через некоторое время учитель увидел в книге Тома пятно, и всё внимание мальчика было поглощено его собственным делом. Бекки на мгновение вышла из своего мрачного оцепенения и обнаружила большой интерес к происходящей перед нею расправе. Она знала, что все уверения Тома, будто он не обливал своей книги чернилами, всё равно не помогут ему. Так и случилось. За то, что он отрицал свою вину, его наказали больнее. Бекки думала, что она будет рада, и пыталась уверить себя, что действительно радуется, но это было не так-то легко. Когда дело дошло до розги, Бекки захотелось встать и сказать, что во всём виноват Альфред Темпль, но она сделала над собой усилие и заставила себя сидеть смирно. «Ведь Том, — размышляла Бекки, — наверняка наябедничает, что это я разорвала картинку. Так вот же, не скажу ни слова! Даже если бы надо было спасти ему жизнь!»
Том получил свою порцию розог и вернулся на место, не чувствуя большого огорчения. Он думал, что, может быть, и вправду как-нибудь нечаянно во время драки с товарищами опрокинул чернильницу на книгу. Так что отрицал он свою вину только для формы, только оттого, что таков был обычай, и он лишь из принципа твердил о своей правоте.
Прошёл целый час. Учитель сидел на троне и клевал носом. От гуденья школьников, зубривших уроки, самый воздух стал какой-то сонный. Мистер Доббинс выпрямился, зевнул, отпер ящик стола и нерешительно потянулся за книгой, словно не зная, взять её или оставить в столе. Большинство учеников смотрели на это весьма равнодушно, но среди них было двое таких, которые напряжённо следили за каждым движением учителя. Несколько минут мистер Доббинс рассеянно нащупывал книгу, затем вынул её и уселся поудобнее в кресле, готовясь читать. Том бросил взгляд на Бекки. У неё был беззащитный, беспомощный вид, точно у затравленного кролика, в которого прицелился охотник. Том моментально забыл свою ссору с ней. Скорее на помощь! Надо сейчас же что-нибудь предпринять, сейчас же, не теряя ни секунды! Но самая неотвратимость беды мешала ему изобрести что-нибудь. Великолепно! Блестящая мысль! Он подбежит, схватит книгу, выскочит в дверь — и был таков! Но он чуточку поколебался, и удобный момент был упущен: учитель уже открыл книгу. Если бы можно было вернуть этот миг!
«Слишком поздно, теперь для Бекки уже нет никакого спасения».
Ещё минута, и учитель обвёл глазами школу. Все глаза под его взглядом опустились. В этом взгляде было что-то такое, отчего даже невиновные затрепетали в испуге. Наступила пауза; она тянулась так долго, что можно было сосчитать до десяти. Учитель всё больше распалялся гневом. Наконец он спросил:
— Кто разорвал эту книгу?
Ни звука. Можно было бы услышать, как упала булавка. Все молчали.
Учитель впивался глазами в одно лицо за другим, ища виновного.
— Бенджамен Роджерс, ты разорвал эту книгу?
Нет, не он. И опять тишина.
— Джозеф Гарпер, ты?
Нет, не он. Тревога Тома с каждым мигом росла. Эти вопросы и ответы были для него медленной пыткой. Учитель оглядел ряды мальчиков, подумал немного и обратился к девочкам:
— Эмми Лоренс?
Та отрицательно мотнула головой.
— Греси Миллер? То же самое.
— Сюзен Гарпер, это сделала ты?
Нет, не она. Теперь очередь дошла до Бекки Тэчер. Том дрожал с головы до ног; положение казалось ему безнадёжным.
— Ребекка Тэчер (Том взглянул на её лицо: оно побелело, от страха), ты разорвала… нет, гляди мне в глаза… (она с мольбой подняла руки) ты разорвала эту книгу?
Тут в уме у Тома молнией пронеслась внезапная мысль. Он вскочил на ноги и громко крикнул:
— Это сделал я!
Вся школа в недоумении поглядела на безумца, совершающего такой невероятный поступок. Том, постояв минуту, собрал свои растерянные мысли и выступил вперёд, чтобы принять наказание. Изумление, благодарность, восторженная любовь, засветившаяся в глазах бедной Бекки, вознаградили бы его и за сотню таких наказаний. Увлечённый величием собственного подвига, он без единого крика перенёс самые жестокие удары, какие когда-либо наносил мистер Доббинс, и так же равнодушно принял дополнительную кару — приказ остаться в школе на два часа после уроков. Он знал, кто будет ждать его там, у ворот, когда его заточение кончится, и потому не считал двухчасовую скуку слишком тяжкой…
В этот вечер, отправляясь спать, Том тщательно и долго обдумывал, как он отомстит Альфреду Темплю. Бекки, в припадке стыда и раскаяния, поведала ему обо всём, не скрывая и своего ужасного предательства. Ню даже планы мщения скоро уступили место более приятным мечтам, и, засыпая, он всё ещё слышал последнее восклицание Бекки: «Том, как мог ты быть таким великодушным!»
Глава XXI
КРАСНОРЕЧИЕ — И ПОЗОЛОЧЁННЫЙ КУПОЛ УЧИТЕЛЯ
Приближались каникулы. Учитель, всегда строгий, стал ещё строже и требовательнее: ему хотелось, чтобы школа могла щегольнуть на экзаменах перед посторонними зрителями. Розги и линейка редко лежали теперь без работы — по крайней мере, в младших классах. Только юноши и девицы лет восемнадцати — двадцати были избавлены от телесного наказания. А бил мистер Доббинс больно, мускулы у него были здоровые, так как до старости ему было далеко, хотя он и прятал под парикам обширную сияющую лысину. По мере приближения великого дня вся таившаяся в нём склонность к мучительству стала пробиваться наружу: он, казалось, находил злобное наслаждение в том, чтобы карать за самые ничтожные проступки. Мудрено ли, что младшие школьники целые дни трепетали и мучились, а по ночам строили планы жестокого мщения! Они не упускали случая устроить учителю какую-нибудь пакость. Но силы были неравные, и он всегда оказывался победителем. За каждой удавшейся местью следовала такая грозная и страшная расправа, что мальчики всегда покидали поле битвы с большими потерями. Наконец они устроили заговор и придумали план, Обещавший им блестящую победу. Они столковались с учеником живописца, малевавшего вывески: посвятили его в свою тайну и просили оказать им помощь. Тот пришёл в восторг, и не удивительно: учитель столовался в доме его отца, и у мальчика было много причин ненавидеть злого педагога. Как нарочно, жена учителя собралась куда-то в гости к своим деревенским знакомым и должна была уехать через несколько дней. Значит, ничто не могло помешать задуманной мести. Перед всяким великим событием учитель любил подкрепляться спиртными напитками, и ученик живописца обещал, что накануне экзамена, как только педагог охмелеет и уснёт в своём кресле, он «сделает всю эту штуку», а потом разбудит его и препроводит в школу.
Но вот наступил этот замечательный день. К восьми часам вечера здание школы было ярко освещено и украшено венками, гирляндами из листьев и цветов. Учитель, как на троне, сидел в большом кресле на высоком помосте. Сзади находилась доска. Было видно, что он изрядно нагрузился вином. Три ряда боковых скамеек, справа и слева, да шесть рядов посредине были заняты местными сановниками и родителями учеников. Налево, за скамьями взрослых, на широкой временной платформе сидели школьники, которые должны были отвечать на экзамене: ряды мальчиков, так чисто умытых и одетых, что они чувствовали себя словно связанными; ряды неуклюжих подростков; белоснежные ряды девочек и взрослых девиц, разряженных в батист и кисею и, видимо, ни на минуту не забывавших, что у них голые руки, что на них старинные бабушкины побрякушки, розовые и синие банты и цветы в волосах. Остальные места занимали школьники, не участвовавшие в испытаниях.
Началось с того, что встал какой-то крошечный мальчик и робким голоском пролепетал:
О, вам, я знаю, непривычно,
Чтоб говорил малыш публично… —
и т. д., сопровождая свою декламацию мучительно аккуратными, судорожными жестами, словно машина — машина, в которой что-то немного испортилось. Тем не менее он благополучно добрёл до конца и, жестоко испуганный, был награждён дружными аплодисментами, отвесил свой механический поклон и удалился.
Сконфуженная маленькая девочка просюсюкала «У Мери был ягнёнок» и т. д., сделала реверанс, внушающий острую жалость, получила свою порцию рукоплесканий и, пунцовая от счастья, уселась на место.
Затем очень самоуверенно вышел вперёд Том Сойер и начал декламировать неугасимое, неистребимое «Дайте мне волю иль дайте мне смерть!» с великолепной свирепостью и бешеной жестикуляцией, но, дойдя до половины, запнулся. Тут его охватило смущение, он почувствовал страх перед публикой; ноги подкашивались, в горле что-то давило; он не мог произнести ни слова. Правда, слушатели отнеслись к нему с явным сочувствием, но все они молчали, и их молчание было для него даже более тягостно, чем их сочувствие. Учитель мрачно нахмурился, и это довершило катастрофу. Том ещё немного побарахтался и вернулся на своё место уничтоженным. Были слабые хлопки, но они замерли в самом начале.
Далее следовало: «Мальчик стоял на пылающей палубе», а также «Ассирияне шли, как на стадо волки» и другие перлы декламации. Затем наступила очередь новых состязаний: чтение вслух и диктант. Жидкий латинский класс не без успеха продекламировал стишки. Затем юные леди должны были самолично читать свои собственные сочинения. Это было гвоздём всей программы.
Каждая по очереди выходила к самому краю платформы, откашливалась, подносила к глазам свою рукопись (перевязанную хорошенькой ленточкой) и начинала читать, старательно соблюдая «выражение» и знаки препинания. Темы сочинений были те же, какие в подобных случаях разрабатывали мамаши, бабушки и прабабушки этих девиц и вообще все предки по женской линии, начиная с крестовых походов: «Дружба», «Воспоминание о былом», «Промысел божий в истории»; «Царство мечты», «Польза культуры», «Формы политического устройства государства», «Меланхолия», «Любовь к родителям», «Сердечные склонности» и т. д. и т. д.
Главной особенностью всех этих сочинений была тщательно взлелеянная меланхолия. Вторая особенность — целые потоки всяких нарядных и красивых словечек. Третья особенность — притянутые за уши излюбленные обороты и фразы, которые от частого употребления истрепались до последних пределов. А самое заметное (и самое зловредное) качество всех этих рукописей — навязчивая и невыносимая мораль, которая всегда неизменно помахивала на последней странице своим куцым хвостом. Какова бы ни была тема, нужно было какой угодно ценой выжать из своих мозгов нравоучение, над которым всякий религиозный и высоконравственный ум мог бы поразмыслить не без пользы. Фальшь этой морали очевидна для всякого, но это не мешает ей и по нынешний день процветать в наших школах; возможно, что они останутся в моде, покуда существует земля. Нет такой школы во всей нашей стране, где юные девицы не считали бы своим долгом заканчивать свои сочинения религиозной проповедью. И чем распущеннее какая-нибудь великовозрастная школьница, чем меньше в ней религиозного чувства, тем набожнее, длиннее и строже мораль её классных сочинений. Впрочем, довольно об этом, ибо суровая правда приходится по вкусу не многим.
Лучше вернёмся к экзаменам. Первое прочитанное сочинение носило заглавие: «Такова ли должна быть Жизнь?»[Сочинения, которые цитируются здесь, заимствованы без изменений из книжки, напечатанной под заглавием «Проза и поэзия одной дамы, живущей на Западе», так как в них точнейшим образом выдержан стиль, свойственный сочинениям школьниц, и никакая подделка не могла бы сравниться с ними. (Примеч. Марка Твена.)]
Может быть, у читателя хватит терпения вынести хотя бы краткий отрывок:
На обычных тропах бытия с каким радостным волнением предвкушают юные умы какое-нибудь долгожданное празднество. Воображение рисует им картины веселья, окрашенные в розовый цвет. В мечтах сластолюбивая поклонница моды видит себя в самом центре ликующей и восхищённой толпы. Её изящная фигура, облечённая в белоснежные ткани, кружится в упоении весёлого танца; у неё самая лёгкая поступь, и глаза её сияют ярче всех в этой празднично-ликующей толпе. В таких сладостных грёзах время быстро проносится мимо, и приходит желанный час, когда она может вступить в тот рай, о котором так пылко мечтала. Какими волшебными представляются ей все очарования этого нового мира! Каждое новое видение соблазняет её всё более и более. Но вскоре она обнаруживает, что под этой блестящей поверхностью всё — тлен и суета. Лесть, которая так услаждала её душу, теперь лишь раздражает её слух; пышные бальные залы потеряли свою привлекательность, и с разрушенным здоровьем и с удручённым сердцем она уходит оттуда, унося непоколебимую уверенность, что никакие земные утехи не могут утолить её духовную жажду!
И так далее и так далее. Чтение всё время сопровождалось одобрительным гулом; слышались тихие возгласы: «Как мило!», «Как красноречиво!», «Как верно!» и т. д. И когда вся эта канитель завершилась удручающе пошлой моралью, все восторженно захлопали в ладоши.
Потом встала хрупкая, печальная дева, с интересной бледностью лица, происходящей от пилюль и несварения желудка, и прочитала «поэму».
Я приведу из этой поэмы лишь две строфы:
ПРОЩАНИЕ МИССУРИЙСКОЙ ДЕВЫ С АЛАБАМОЙ[Алабама — один из североамериканских штатов.]
Алабама, прощай! И хоть ты мне мила,
Но с тобою пора мне расстаться.
О, печальные мысли во мне ты зажгла,
И в душе моей скорби гнездятся.
По твоим я блуждала цветистым лесам,
Над струями твоей Таллапусы,
И внимала Талласси бурливым волнам
Над зелёными склонами Кусы.
И, прощаясь с тобой, не стыжусь я рыдать,
Мне не стыдно тоскою терзаться,
Не чужбину судьба мне велит покидать,
Не с чужими должна я расстаться, —
В этом штате я знала уют и привет,
Алабама моя дорогая!
И была б у меня бессердечная tete,[La tete (франц.) — голова.]
Не любила бы если б тебя я!
Мало кому из слушателей было известно, что такое tete, но тем не менее поэма понравилась.